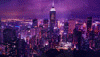Он желал им доброй ночи, и плакали кровавыми слезами погибавшие в пожарище страстей цветы. Он дарил снов спокойных нестройное виденье, и зарей сумасшедшей боли жгло остатки исковерканной души….
В полумраке уходящего за грани деяний правды дня лишь вздрагивали язычки ненасытного пламени навечно запертого за решетчатой створкой уличного фонаря. Воздух был еще насыщен теплом умирающего дня, но в пространстве надвигающегося савана чернильной ночи уже появилась та зловещая пустота, что обычно предвещает собой открытие сокровенных тайн. И не знает никто, даже сама госпожа таинственного мрака, что скрывается под ее покровом, закутанное в плотные ткани немыслимых заблуждений. Спрятанное от посторонних глаз, порою кажется загадкой и для нас, лишь в мгновения обманчивого сна выходит правда… Посмотри, она…
Сегодня был особенный вечер. Вечер, переходящий в ночь безумства кошмара, подлинной страсти предельной суеты, вдруг выплеснувшейся потоком обжигающей лавы из недр сознания. Но пока что человек, сидящий на крыльце своего безликого дома, только вглядывался с созвездие гончих котов, неожиданно проявившиеся на еще голубо-облезлом небе, не занятом чернотой предстоящего краха реальности мечтаний.
И силуэт его облекался театром безмолвных теней, навевавших такой непостоянный покой, такое желанное одиночество и такое ужасное в своей недостижимости понятие свободы.
Утомленный бешеным ритмом дня, в котором содержалось многое… и дрожащее дыхание порванной нити доверия, и вкус свежей крови, и алчущий взгляд изнутри, и бережно хранимое счастье, мечущееся меж острых стальных спиц. Пока оно почти что живо. Но надолго ли? Так велика вероятность пораниться об режущую кромку…. Наткнуться на острие… И все… ничего не вернуть, ничего не спасти… Ничего…
Перебивая аромат гниющих и истекающих забродившим соком яблок, настойчиво напоминала о себе металлическая жажда забвения, все так знакомо, что ветер, качающий в жуткой колыбели кроны яблонь, покрытых лишаем, казался давним спутником… Из века в века.
И все размытой становилась алая реальность, все более четко, будто на выцветший снимок каким-то образом возвращались краски, вспыхивали давно похороненные воспоминания. А по темно-багровым венам подсознания потекли отравленные мысли…
… Это было так давно, что успело обратиться в тлен и рассыпаться по бескрайним закоулкам личности. Это была правда и это была ложь. Это был твой кошмар, Ремфан, разделенный с твоим заклятым другом…
Все, словно за мутным стеклом. Границы окружающих предметов зыбки и размыты, а чувства неизменности убиты. Какая разница, что будет потом? Через столетия смотреть на собственную юность, не в силах помешать событиям… Со стороны оно видней. Да что греха таить!? Больней. Так сложно вспомнить, что ты когда-то жил…
- Вот он! Я вижу его! Светловолосый паренек лет четырнадцати с тревогой обернулся на возбужденные голоса, доносившиеся откуда-то сзади. Толпа слипшихся теней, лиц которых было не различить в пляшущих искрах факелов, перемешанных с копотью их сердец. Дернутся в сторону, да только некуда… Душу забирает страх. Не тот, в чьих издевающихся объятьях властвует страсть и агония, а настоящий… живой… еще такой неиспорченный желанием смерти, еще такой… почти святой…
Мальчонку некому защитить от приближающейся твари из толпы людей. Александр всегда был сиротой, даже при живых родителях, чей удел оказался настолько предсказуем, что даже спустя много лет он будет помнить о них… всегда вспоминать, когда блестящее лезвие ножа раз за разом вонзается меж ребер… и вверх по груди, рассекая плоть. Мой вам подарок, вам моя жертва.
И, оцепенев от ужаса, подросток лишается последнего шанса спастись. Они настигают его. Ведомая праведным гневом погоня, разгоряченная своими же страстями… стадо без мыслей, стремящееся лишь испить чужую жизнь.
За что такая жестокость, ведя я не сделал вам ничего… ничего…? Вы слышите? Да только все без толку. Толпа людская глуха к мольбам, если почуяла легкую добычу.
… Все было иначе. Желая лишь хоть немного накормить вечно изводящего его червя, Александр забрался в кладовые старой Матильды, что жила затворницей, утопая в роскоши и заплесневелых рюшах. Кто же знал, что старуха проснется? Кто знал, что увидев в отражении свечи изуродованное природой и проклятьем лицо мальчика, упадет навзничь, размозжив свою голову о порог?
Невинное убийство… Одно из первых в череде бесконечного веселья. Но пока что смерть эта страшила Александра не меньше, чем предстоящая расплата.
Они окружили его. Дрожащего зверька, на исхудалом лице которого блестели ярко-голубые глаза, в которых было столько ужаса, сколь больше ни разу не посетит его несуществующее сердце.
- Смерть уроду! Откуда-то полетел камень, наполняя правый бок пульсирующей болью, затем еще один… еще. Тут только желание жить пересилило извечный инстинкт у всех живых существ замирать перед опасностью. Еще немного, и град камней похоронил бы под собой мальчонку, но сам ослепленный яркостью факелов, рванулся он, отталкивая стоящую на пути тень, что попыталась схватить его за воротник рубахи.
Вперед бежать, а позади гремит,… бушует буря, уже хищно скрежещет сталь… Этот звук Александр запомнит. Он будет приходить к нему бессонными ночами, пока не явится в настоящее, обретая очертания, которым можно верить. По сумраку метался беспризорник, пока темная бездна мрака из чуть приоткрытой двери не дала ему кров…
Забившись в угол, размазывая по щекам слезы, мальчик притих… Здесь пахло только пылью… Здесь царила тишина… Может быть, грозная смерть в обличии людском пройдет мимо и не заметит… Может быть…. Может быть… Да, старые тени обманчивы.
- Кто здесь? Несмелый голос, дрожащий как струна,… казалось, что все реальность закружилась, смешиваясь с кровью, выступавшей на светло-серой грубоватой ткани…