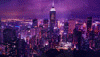За минуту до выстрела…
Черная дыра, дуло смотрело так, как будто что-то знало. Это же выражение Юленька видела в глазах цыгана – Ирининого мужа. Недаром он снился ей сегодня ночью. Пришел, жаждущий воспоминаний, желающий снова дотронуться до нее. Призрак из прошлого, хотя душа этого человека по-прежнему живет в его теле. И теперь, когда прошло столько лет, Джельетта ощущала ту же опасность, что тогда, на берегу заболоченного ручья. Все закончилось тогда совсем-совсем банально. Он поскользнулся на вросшем в мягкую почву камне… Могло бы быть смешно, если бы тот момент, что предшествовал этому, не врезался так в память, не повлиял бы так на всю жизнь Юленьки. Правильно, когда была еще жива бабка Прасковья, то любила она приговаривать, расчесывая волосы внучки, светлые, как колосья на бескрайних полях, что в день несчастливый родилась девочка, что ждет ее горе… Жалела, конечно, по своему. Только все равно, обещала несчастья, да нелюбовь. Не любила Юленька бабу Прасковью, сторонилась. На селе ее ведьмой считали, говорили, что заговоры знает, даже из большого города к бабке люди со своими бедами приезжали, все с деньгами, подарками. Тогда Юленьке это казалось красивой жизнью, не смотря на то, что красоты в финансовом достатке было мало, у всех есть свои темные углы, в которых живет зло и несчастье.
Слова Романа, не ее мужчины, не околдованного принца, а хозяина, взявшего на работу девушку из деревни, пролетали стороной, не отражаясь в сознании. Юленька была далеко, не здесь… Это был вечер, ничем не отличающийся от сотен подобных ему темных вечеров, когда низкие тучи затягивают небо, и в разрывах их иногда виден тонкий месяц, который вновь и вновь поглощается тенью. Врет фотография в рамочке, что так трепетно хранила Нинка- мать Юленьки. Не уехал отец ее на заработки. Обрываются последней датой письма в измятых конвертах. Помнишь, папа, мы встречались с тобой темным вечером. Ненавижу. Сухо, без слез. За все те страдания, за всю ту боль, что испытала мать Юленьки, засыпая в одинокой двухместной кровати одна. Все бывает так похоже, хотя разделено слоями разной жизни и разных нравов.
Никто не знает, никто не найдет той тропинки. Юленька не хочет вспоминать. Не хочет, а в Романе Аркадьевиче ей видится отец. Он тоже обманет, предаст. Только решать все нужно здесь и сейчас, другого случая не будет…
За пять секунд до выстрела.
Пять. Он так устал от этой жизни. Работа, вечные проблемы. Позвонить в клинику, чтобы узнать, как там его жена, как Вера. Она, как обычно, не захочет с ним разговаривать. Нервно смеется в трубку, потом срывается на крик. Роман не может больше слушать ужасные обвинения в свой адрес, но хочет, чтобы она хоть что-то говорила. Знать, что Вера еще жива, может быть, даже чувствовать какой-то отголосок оставшейся любви. Хотя, как можно любить женщину, чуть не убившую их ребенка? Она не помнит, что сделала это сама… А он ей почему-то не говорит, наверное, Вера все равно не услышит слова своего мужа.
Четыре. Она приходит домой усталая. Ноги в лесной грязи, платье кое-где порвано острыми сучьями, в волосах запутались листья. Юленька не объясняет ничего матери, да та и не спрашивает. После изнуряющего дня, когда нежданно нагрянула проверка в магазин, где Нина работала у прилавка, женщине все равно, что происходит вокруг нее. Ноют ссадины на коже, утром у Юленьки будут болеть руки и спина. С тех пор оборвется поток писем, которые приходили раз в два-три месяца на почту и который так ждала Нинка. В старой бане, что покосившись, простоит на заднем дворе еще ни один год, под половицами спрятан чемодан. На твердой коже обивки наклеены разноцветные марки, Юленька не будет открывать его… пока не будет.
Три. Красивая жизнь. Что это такое? Глянцевым журналам удается только передать кажущуюся беззаботность. Это хруст бумажных пакетов, в которых служанка несет на кухню еду из дорогих магазинов, это шлейф западных нравов, это то, когда можешь себе позволить почти все, что хочется. Это зависть, ревность и завуалированное стремление перегрызть друг другу глотки.
Два. Детский смех слышен даже в бедности и нищете. Только ребенок учится довольствоваться малым. Здесь, превозмогая боль, младший сын Веры и Романа Аркадьевича смог познать мир через ту маленькую возможность, которую теперь предоставила ему начатая со страданий жизнь. Он простил бы свою мать, но память скрывает ее образ. Поэтому, когда сестра просыпается, услышав голос матери, только удивленно провожает ее взглядом.
Один. Мама! Мамочка! Босые ножки звонко шлепают по полу. Аленка видит в черной тонкой тени свою мать. Чтобы там ни было, но девочка тянется к этой женщине. Узнает ли она свою дочку? Дочку, что каждый день спрашивала отца о том, когда же приедет мама. Роман не успевает даже прикоснуться к Алене, не то, чтобы остановить ее… Девочка подбегает к матери и прижимается к ней, пряча лицо в одежде… совсем также, как делала это, когда была еще совсем маленькой.
Зеро. Выстрел обрывает лай собачонки, выбежавшей из-за приоткрытой двери детской комнаты. Песик пронзительно, совсем по человечески взвизгивает и стремительно уносится прочь, чтобы спрятаться под кроватью младшего мальчика…
Зеро оказалось не смертельным, но это не противоречит ожиданиям… Роман Аркадьевич теперь рядом со своей женой. Его рука ложится на ствол дробовика, и он отбирает оружие, что пока не унесло ни единой жизни, а затем, почти не замахиваясь, бьет Веру по лицу.